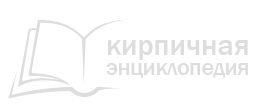Виталий Гарновский. Огненный гранит. (Часть 3-я)
Кроме Анна с ребятишками провожать его на вокзал пришли кое-кто из соседей и знакомых — как же, в Париж мастер едет! Явился и управляющий с конторскими, забрались по такому случаю в буфет, позабыв о том, кого провожают, выбежали к поезду только под третий звонок. «Ну и ладно, господа хорошие, пейте и дальше», — подумал Матвей, а когда поезд побежал мимо заводских складов, поклонился им — прощайте, кирпичи и кирпичики!
В Питере долго задерживаться не пришлось. На второй же день господин Чернягин, коему дело с Матвеем было поручено Голицыным, сходил с ним в полицию, еще куда-то, получил заграничный паспорт Матвею, отдал ему с наказом — не терять, а то, смотри, обратно в Россию не впустят, — и отвез его на Варшавский вокзал.
-На пограничную станцию приедешь, спросишь у соседей, куда с паспортом этим обращаться. А как только будешь в Германии, к тебе господин Ольшанский явится и поедет с тобой до Парижа, там тебя устроит и все объяснит.
Пока по России ехали, Матвей думал об одном: как-то там теперь Анна с ребятней? Яшка растет степенным, грамота дается. Да учить дальше не на что. Придется осенью мальца в ремесло отдавать, двенадцать годков ему исполнится к той поре. Серега, этот потуполобее и озорня порядочная, хотя и доброй души, по всему видно. Девчонка, Ольгушка, худенькая, а старательная…
На приграничной станции Матвей решил над жандармом пошутить. Не любил он жандармов, да кому они из простого народа любы? Ну, а здесь дело такое. Подошел к одному служивому — сажень с вершком ростом, а усищи до плеч, — котелок снял и эдак жалобно:
-Господин жандарм, вот я в Париж еду. До границы доехал, а как дальше не знаю. Научите, пожалуйста, век за вас буду бога молить…
-В Париж? Зачем тебя туда несет? А паспорт есть?
-Вот он, пожалуйста!
Взял жандарм паспорт, раскрыл его, посмотрел, удивился — все честь по чести. Спросил:
-За какой надобностью едешь? К кому? А в чемодане что?
-На выставку вызван хозяином, разные бобушки из глин делать для французов, а в чемодане — три рубахи чистые да трое порток холстяных, одни-то поношенные, с заплатками, да ведь в Париже я поверх порток штаны носить буду, заплаток и не видно…
-Не мели, пойдем со мной!
Зашли в вокзал, народу там невпроворот, и все господа, барыни, и по облику русские, а уже к загранице готовятся, по-немецки лопочут. Матвея к какому-то чиновнику жандарм подсунул. Тот ничего, вежливо так, что да почему расспросил, чемодан приказал раскрыть, бельишко переворошил, по чемоданному дну пальцем постукал. Потом жандарму:
-Проведи пассажира в заграничный вагон…
Оглянулся на платформе Матвей на русскую сторону, и так ему невесело стало. Да что ж! На заработки пустился — не скоро воротится, давно сказано. Полез в немецкий вагон. Только присел — идет по вагону молодой человек в коричневом пиджачке, спрашивает по-русски:
-Господа, кто здесь Никитин из Боровичей? Кто Никитин?
-Я это буду, — откликнулся Матвей. — А вы, дозвольте спросить, кто будете?
-Моя фамилия — Ольшанский, имя-отчество — Натан Рувимович. Князь Голицын поручил мне встретить вас и сопроводить до Парижа. Впрочем, и в Париже я вашим переводчиком буду.
-В приказчиках, значит, у князя?
-Нет. Я студент, учусь в Париже. Знаю и французский, и немецкий. Приходится, знаете, подрабатывать. А сейчас как раз каникулы.
Без звонков и гудков тронулся немецкий поезд. День поскучнел, дождик заморосил, как будто и не лето. Матвей в окно поглядывает, интересуется чужой стороной. Ничего, чистенько живут, дома все больше каменные, под черепичными крутыми крышами, леса будто причесаны, нет в них вольного бурелома да лохматых кустиков — все под один рост. Коровы на лугах хороши — здоровенные, вымя большое. Но скоро Германия Матвею пригляделась, завел разговор с Ольшанским:
-По фамилии вы русский…
-Русский еврей, — поправил его Ольшанский.
-Ну, пусть так, согласен. Почему же вы в Париже обучаетесь, а, скажем, не в Питере? Сами-то какой губернии будете?
-Витебской. Из самого Витебска. Отец у меня сапожник. Дамскую обувь шьет.
-Это высокая марка!
-Почему учусь не в России? А вы, господин Никитин, знаете, что такое процентная норма? Нет? Это такое дело, что когда сын еврея в России захочет учиться в гимназии или дальше и экзамен для вступления сдаст, то ему говорят: «Мы вас не примем, вы процентная норма». Это значит, на сто принятых в гимназию русских полагается принять самое большое двух-трех евреев. И если ты лишний, то можешь идти к отцу и продолжать сучить дратву.
-Ну а ежели еврей лучше всех науки знает, а иной русский едва-едва в них бредет? Тогда как?
-Очень просто. Русский будет учиться, а еврей, пусть он мудрее Соломона, пойдет домой к отцу и будет ждать, пока эта норма не подойдет.
-Вот теперь уразумел. Что ж, отец у вас богатый человек, что вам на ученье денег дает?
-Думаю, он не богаче вас, если не обидитесь, господин Никитин. Я же сказал — он сапожник.
-Не зовите меня господином, Натан Рувимович, зовите Матвеем Яковлевым, я простой человек. Так на какие же средства учитесь?
-Сам зарабатываю. Удалось гимназию почти закончить, но… и вот уехал за границу, здесь нет процентной нормы, только учись хорошо. И я учусь. Буду инженером.
-А потом во Франции и останетесь?
Вряд ли. Там инженеров и без меня много. Вернусь в Россию. Она же моя родина, и в ней, думаю, найдется место инженеру, хотя бы и еврею.
-Вот вы о процентной ставке… А как нам-то, простым рабочим, со своими детишками? Вам, евреям, — процентная норма, а нам, русским, ребят учить не на что. Вон у меня старший три года проучился — и конец, нет дальше ему хода, деньги нужны — и за ученье, и за одежду, за книги, за пропитание. Вот тебе и норма для простого человека — совсем ходу нет в гимназии и университеты. Теперь я должен парня в ученье определить — к сапожнику там, столяру или в портные. А что, из него инженер не получился бы? Но на наших заводах, особенно у Вахтера, не только инженеры, так и мастера — немцы… Как же это так:
Оживленно беседую, проехали всю Германию…
Годами жил Матвей в Петербурге, бывал в Москве, но такого города, как Париж, ему видать не приходилось. И не только что дома такие особые, нет, — народ, вот что подивило боровичского мастера. Бойкий, крикун-народ, а то с песенкой, с улыбочкой, будто живет он и круглые сутки радуется. Шуму, грому, суеты — истинная ярмарка!
Да и сам по себе город красив — сады есть, здания чистенькие, небо высокое, не питерское, солнышко калит вовсю.
Вышли с Ольшанским с вокзала, и сейчас же подкатил к ним «коше» — извозчик с колясочкой, в цилиндре, бич длиннющий, как в России у коровьего пастуха. И помчал Матвей по Парижу из одной шумной улицы в другую. Да, многонько народу, в иных местах столики прямо на панели, люди сидят, пьют кофе, вино, лимонад. А пьяных ни одного Матвей не приметил. Удива!
Свернули в совсем тихий переулок. Поднялись выше четвертого этажа. Матвей с непривычки даже устал. Вышла квартирная хозяйка, у нее комнатку для Матвея наняли. Хозяйка очень полная, губы подкрашены, в руке совок и метелка. Затараторила с Ольшанским. Потом в комнатку провела — под самой крышей, потолок косой и оконце невысокое, но широкое, а герань в горшке — совсем как у Матвея в избушке своей. Кровать железная, под голубым пикейным неновым одеялом, столик, два стула — сиденья соломенные, как в России. У двери еще столик, на нем таз медный и кувшин с водой.
Ольшанский поясняет:
-Вот вам и квартира. Возвращаться в нее надо до двенадцати ночи, иначе ночуете на улице или в полиции, так хозяйка говорит. Посещать вас разрешается только мужчинам — мадам весьма добродетельна… по крайней мере теперь, под старость. Утром она подаст вам кофе и булочку с маслом, обедать будете на выставке, там для рабочих и обслуживающих есть недорогая столовая, завтра договорюсь о вашем питании с гарсоном. Кажется, все. Ах, да, — добавил он, когда хозяйка пострекотала еще что-то. — Умываться придется по-французски — нальете воды в таз и полощитесь, грязную в ведро сольете, чистой опять в таз, и лицо умоете… Только старайтесь на пол много не брызгать… Да вы ложитесь, отдохните часик с дороги. Под вечер я приду, сходим перекусим чего-нибудь.
Недели не прошло — приноровился Никитин к новой жизни. Вставал рано, наскоро пил жиденький кофе и торопился на выставку еще в то время, когда по улицам шел только рабочий люд. Дорогу он запомнил сразу. И Ольшанский уже не заходил за ним, а ожидал его у ворот здания выставки, не главных, а боковых — для тех, кто здесь работает.
Для Матвеева горна и потешной мастерской была отведена набольшая площадка, где стояли и другие горны фарфоровых фабрик, гончарной посуды и огнеупорных изделий. Русский мастер сам пристроил свою кладку к отводу в общую дымовую трубу, вывел горно в две камеры. Под навесом были сложены мешки с глинами, шамот, вода рядом, в кране.
Спасибо Ольшанскому — чуть где затрет Матвея, сейчас же он на выручку, узнает, в чем дело, куда-то убежит, с кем-то поговорит, и вот уже сделано так, как требует приезжий. Следить за горном одному человеку не приходится: Матвею дали в подручные бойкого паренька с патлатой рыжей головой и вполне русскими веснушками. Звали его Жаком, что по-русски, как объяснил Ольшанский, значило Яков, и Жак скоро стал откликаться на Матвеево «Яша». Оказался он смекалистым и не лентяем, а мастеру только того и надо было.
Матвей, пользуясь отсутствием Яши, засыпал в большую кадь нужных ему глин и шамотов в своей пропорции и замесил массу. Затем, уже с помощью Яши, наготовил валюшек и напрессовал три сотни кирпичиков. Когда в горне был разведен огонь и поставлены на просушку изделия, к Матвееву «заводу» подошел сам князь Голицын с какими-то нерусскими господами в сюртуках и цилиндрах. Князь с мастером обошелся по-простецки, пожал ему руку («Это при чужих людях», — смекнул Матвей) и спросил, скоро ли он, князь, увидит изделия из пирогранита, изготовленные здесь, в Париже.
-Не раньше, чем через три дня, — ответил Матвей. — Зато потом каждый день готовенькие из обжига вынимать будем, как оладьи.
-Хорошо, — одобрил Голицын, сказал что-то французам — и к Матвею: — На днях вам будет дан новый заказ и новые формы для пресса. Надо будет изготовить несколько тысяч маленьких плиток с барельефом, проще — портретом президента Франции. Постарайтесь выполнить работу возможно лучше. Как вас устроили на житье? Говорите без стеснения.
-Заказ сделаю хорошо: плохо делать не люблю, если чему научен. На жилье жаловаться не приходится — чисто, тихо. А вот денег французских у меня нет, как бы русские поменять, а то хлеба купить или чего к ужину.
-\как же так, господин Ольшанский… — Князь с укоризной глянул на переводчика. Тот пожал плечами.
-Господин Никитин не просил меня об этом, а я не догадался. Но это сделать не трудно.
-Сделайте завтра же А пока возьмите, Никитин, вот эту монету. Золотая… Двадцать франков.
Когда князь со своими знакомыми ушел, Ольшанский сказал Матвею, что теперь он может ходить обедать с Жаком, а он, Ольшанский, будет приходить только под вечер.
-Это можно, — согласился Матвей. — Только вы Якову объясните как и что…
В полдень отправился мастер с подручным в столовую, показал Жаку золотой. Тот поцокал языком — будем сыты.
Для обслуживающих выставку столовая не лучше российских — длиннущий тесовый барак под черной толевой крышей. И столы здесь были длинные, из наскоро поструганных досок и даже клеенкой не покрыты. Но чистенько, вином, кофе, капустой пахнет, Народу — тьма, и все вроде Матвея — рабочие, на штанах, на блузах, на башмаках у кого пятна извести, у кого — глины или цемента, столяра по опилкам в усах узнаешь, слесаря — по бурым рукам. Шум, крик, хохот, но пьяных никого, просто так, от живости натуры французской.
Нашли свободное местечко и только уселись — подбегает официантка в белом передничке и белой наколке на голове, с большущим кожаным кошельком на боку, в кошельке — деньги и записная книжка. Перекинулась с Жаком несколькими словами, записала заказ, дала Матвею сдачи (порядочно мелочи получилось) и умчалась. «Ну, теперь долгонько ждать придется », — подумал Матвей. Но уже через несколько минут официанточка подкатила тележку на четырех колесиках, на ней баки жестяные с супом, ящики с мясным, рыбным, овощем всяким. Мигом перед Матвеем и Яшей тарелки поставила, белый хлеб, заглянула в книжечку — супу мясного налила, по котлетке положила с брюквенной приправой, с макаронами, бутылку вина поставила, стаканы и покатила тележку дальше.
С обедом расправились быстро. Захотелось Матвею узнать: а сколько этот обед стоит? Стал толковать с Яшей и на пальцах, и всяко — не понимает. А тут недалеко еще рабочий сидел, не молодой уже, усы с сединой. Говорит Матвею по-русски, а все таки нечисто:
-Пан русский? Я русскую мову трошки разумию. Вы хотите знать, сколько обед стоит? Один франк пятьдесят сантимов.
-А мне барышня восемнадцать франков сдала и пятьдесят сантимов. Значит с компаньона моего она отдельно получила? Я не заметил. Зачем же он так — я угощаю, поясните ему.
Жак рассердился, не хочет Матвеева угощенья. Тот сивоусый улыбается:
-Я поляк, я вас разумию. Жак человек гордый, не хочет жить за чужой счет, вы тоже рабочий, как и он.
-Милый человек, скажи ты ему, что русские любят других угощать. Особенно для первого раза. Этак я обижусь.
Когда поляк перевел, все весело засмеялись. Они с Яшей договорились — угощать друг друга через день.
Вскоре оказалось, что у Матвея даже в Париже знакомцы завелись, рабочие люди. Поляк это Юзеф к нему на площадку к горну стал захаживать, Жаковы дружки. Матвею веселее работалось, и вроде он стал даже понимать не только слова, как то, что к нему с добром подходят.
Днем за работой о Боровичах некогда было подумать, а придет в свою келью под чердаком, пожует перед сном булочку с сыром, слабым вином запьет — теперь он бутылку вина через день покупал — и сядет у окошечка.
На улице народ сумерничает. Мужчины табуретки к дверям вынесут, трубки курят, женщины, известно, кучками собираются — не поговорить им нельзя, ребятишки играют. Иногда полицейский пройдет — фуражечка с длинным козырьком, на плечах пелерина. Но пройдет вежливенько, тем-другим поклонится: знакомые, значит. А все-таки — полицейский…
А в Боровичах сейчас коров с поля гонят, пыль столбом, из-за речки в два голоса заводские гудки с колоколами перекликаются. Эх, Матюха, ты ли это в Париже? А что, если утром проснешься и увидишь, что Анна печь топит, торопится мужа и ребят накормить и самой куда-либо на приработки податься — то полы мыть, то полоть в чужом огороде. Впрочем, лето на вторую половину пошло, теперь прополки мало…
Зажгутся огни вдоль улицы, и Матвей ложится спать.
День прожит — все ближе то времечко, когда покатит Матвей в свои Боровичи, на Мсту-реку…
Пока он прессовал и обжигал кирпичики и медальончики для продажи тут же невдалеке (для чего французская девица приставлена), князь Голицын вел крупную игру, козырем в которой был Матвей с его пирогранитом. Французские специалисты признали изделия из него превосходными и, между прочим, сообщили князю, что масса действительно оригинальная, но составить ее особо труда не представляет. И князь решил, что теперь можно с уверенностью принимать заказ на пирогранитные изделия. Заказчика искать не пришлось — он сам предстал перед князем в лице представителя солидной английской строительной фирмы, заинтересовавшейся пирогранитом в первую очередь как материалом для облицовки, а также для изготовления канализационных труб и многого другого.
Начались длительные переговоры. Стороны обхаживали друг друга. Англичане выставили два условия: однородность изделий по составу и цвету и короткие сроки выполнения заказа. Первое не вызывало сомнений у князя, второе смущало гораздо больше: нужны были дополнительные средства и для добычи сырья, и для покупки и установки нового оборудования. Рассчитывать на заем не приходилось, и так уже подписано немало векселей.
Но князю опять повезло. Пирогранитом заинтересовались и французские капиталисты. Кто-кто, а они-то знали, как прибылен каждый франк, вложенный в русские предприятия.
На это намекнули князю в ресторане на каком-то официальном обеде, потом уже и прямиком предложили ему не заем, нет, а финансовое участие на долевых началах в предприятии, которое бы именовалось «Франко-русский пирогранит».
-Хвастуны, — проворчал князь, хорошо знавший, что нередко становились банкротами даже «крепкие» французские компании и акционерные общества. Обидно было и терять свою фамилию на вывеске завода. Но другого выхода не было.
Вскоре в Боровичи полетело очередное предписание управляющему: сменить название завода.
-Вот оно как, — сказал управляющий бухгалтеру, прочтя письмо. — Попалась жучка во французские ручки, облапошили князеньку! Ну что ж, придется новую вывеску заказывать. Наше дело маленькое…
Кроме управляющего и бухгалтера, в это время в конторе никого не было, и разговор вели они не таясь: свои люди, одной веревочкой связаны.
-Наедет теперь на завод иностранных инженеров и прочих, — продолжал управляющий. — Нас отсюда попросят. Ну тебя-то, может, и ставят, а меня — обязательно. Вон у Вахтера все заводское начальство — немцы…
-И бухгалтерия немецкая, — подхватил бухгалтер. — Русских в конторе только сторожа да уборщицы…
-Дела! Надо другое место, пока не поздно, приглядывать.
-Чего тебе беспокоиться? Капиталишко малый сколотил…
-Оно так, да хотелось еще год-другой подработать на князе.
Мастеров, десятников на этот раз не созывали. В цехах все же скоро узнали, что князь «запродался» французам, привезет из Парижа новое начальство, а оно рабочим еще крепче хомут затянет.
Каждый раз, приготовляя новую порцию пирогранитной массы, Матвей радовался тому, что все меньше остается глин в мешках, а кончатся запасы — подавай, хозяин, билет в Боровичи.
Дело шло без перебоев. Расторопный подсобник стал понимать даже некоторые русские слова: скажет Матвей «воды» — и Яшка воду подает, скажет «сильнее огонь в горне» — и Яша, кивнув, приговаривает: «Уй, месье, уй!». Да и Ольшанский каждый день на часок забегал, объяснял непонятное Яше, толковал иное и Матвею.
Стояли жаркие июльские деньки. Солнце прокалило каменные здания и асфальтовые панели так, что только вечером можно было вздохнуть всей грудью. Матвей теперь не сидел у окошечка под чердаком, а выходил подышать прохладой на ближайший бульвар под каштаны, на скамеечку, сидел, пока небо звездами не усыплется, прислушиваясь и приглядываясь к жизни большого города.
Вечером люди шли бульварами уже неторопливо: дневные заботы и хлопоты утомляли даже бойких парижан. Голубели сумерки, в окнах домов все больше и больше загоралось огоньков, ребятишки, кончив свои крикливые игры, ушли. Матвей сидел и думал о том, что вот скоро и его работе конец. Да и по дому соскучился. Не с кем слова по-русски сказать. Ольшанский только и порадует родной речью.
И вдруг Матвей вздрогнул. Два молодых человека сели рядом с ним, и один из них, раскуривая трубочку, сказал другому по-русски:
-Слабоват французский табак. Теперь с удовольствием выкурил бы даже самой свирепой махорки фабрики Дунаева.
-То-то трубки изо рта не выпускаешь, — со смешинкой в голосе отозвался второй тоже по-русски.
«Наши! — обрадовался Матвей, но в разговор соваться воздержался. — Кто их знает, по одежде — вроде из господ, еще отругают. Подожду, что дальше говорить будут».
-Нет, Викентий Петрович, — пыхнул трубочкой первый. — Крепче русских табаков, по-моему, в мире нет. Как-то мальчишкой я для своей собаки конуру построил…
-Сам?
-Кому же больше? Батька мой мастером на тульском заводе был, любил, когда и другие рук не жалеют. Так вот, сделал я конуру, а мой Буянко заберется в нее и ну чихать. До слез. Лапой глаза трет. Потом и совсем перестал туда заглядывать. Я к отцу — что делать? «Ты же, стервец, доски от ящиков из-под махорки взял, что в дровяной сарай у меня были заброшены. Так от этих досок не только собаки, а слоны чихать будут». И опять — чих, чих и меня по затылку: «Ломай конуру, делай новую, а то по двору добрым людям будут не пройти!»
-Похоже на охотничий рассказ.
-Не любо — не слушай, — рассеяно пробормотал курильщик.
Но тут Матвей чихнул и раз, и два — звонко, с присвистом.
-Будьте здоровы, — сказал курильщик, и Матвей по привычке ответил:
-Покорнейше благодарю!
Молодые люди враз обернулись к нему.
-Вы русский? — спросил Викентий Петрович.
-Русский, — сконфуженно ответил Матвей и еще раз чихнул.
-Ну вот, Петя, а говоришь, французский табак слабоват.
Петя рассмеялся и сунул трубку в карман. Спросил Матвея:
-Разрешите осведомиться — с кем имеем честь?
-Никитин я, Матвей Яковлев. Горновой мастер. На заводе князя Голицына работаю, в Боровичах. Это Новгородской губернии.
-Очень приятно. Меня Петром зовут, по батьке Ивановичем, а друга моего Викентием Петровичем. Вот и познакомились на чужбине. Разрешите еще спросить — волею каких судеб вы в Париже.
Матвей коротенько рассказал.
-Мне тут недолго скучать, скоро домой, — закончил он.
-Что же, Париж не нравится или французы?
-Как сказать? Яблоко не узнаешь, пока не раскусишь его. А Париж… много ль я его знаю? Город большой, красивый, а все-таки… Ну а французы… Народ бойкий, живой. Малость пригляделся я — работают хорошо, задорно и аккуратно. Да ведь чужое для меня все это.
-Значит в России лучше?
-Со всячинкой есть, чего там. Только в России мне все понятно, а здесь, как в мутную воду глядишь.
-Вот вы говорили, что делаете здесь керамику с портретом президента. А рассказывал вам кто-нибудь, почему во Франции над всеми президент выборный, а в России царь?
-Был разговор… А что в этом такого? Вон в нашем Новгороде, старики сказывали, в древние времена тоже царю не подчинялись, сами себе наистарших выбирали. Посадников. Марфа была еще посадницей. .. Новгород Москве поддался, а Марфу — в Сибирь.
-В Сибирь, значит? — сказал Петр Иванович. — Сибирь русские после Марфы… Впрочем хронология тут ни при чем. Был вольный Новгород, да царь у него волю отнял. Так?
-Вроде так.
-Волю потеряли, царя нажили. А может, без царя лучше было?
-Кто его знает? Давно это было. Да ведь как без царя? Порядок нужен. Цари тоже всякие бывают. Вон, Петр Великий — такого никогда ни в каких странах не было. Или вот — Александр — мужикам волю дал…
-Хороший царь, так?
-Худого не скажу. Легко ли было крестьянам при господах?
-Теперь легче?
-Ясное дело! Только не до конца воля-то мужицкая. Землей пообидели крестьянина. Плохие у царя министры. Из помещиков они, ну свое и выстояли. В министрах загвоздка. Кабы царь об этом знал…
-Вы сами из крестьян?
-Крестьянского корня. Теперь городской, в мещане приписался.
-А хозяин завода у вас хороший?
-Эко сказали! Где вы таких хозяев видывали, чтоб они о своем рубле не радели? Я-то мастер, мне и жалование побольше, все-таки живу не так уж… Сыты и малость одеты. А вот простому мастеровому на заводе оно покруче приходится, это правду надо сказать, чего там! В месяц ежели рублей восемнадцать — двадцать выработает — очень хорошо. А работать-то как приходится? Ну-ка покатайте тачку, а на ней двадцать пять пудов, и вверх и вниз, с горновой жары да на мороз и обратно. И этак с шести утра до шести вечера или во вторую смену. А садчикам каково? Они в горне как в аду — волосы трещат, дерево на тачке горит. На выгрузке то же. Да что говорить — тяжело рабочему человеку, а только на хлебишко и зарабатывает. Зато хозяин тысячами ворочает. Не только наш Голицын, все они такие. Что бы рабочим прибавить, ведь есть из чего, нет! Одними штрафами замучают: шапки перед начальством не снял — штраф, встал на минутку отдышаться — штраф…
-Вам легче, вы мастер, сами штрафуете, наверно.
-Бросьте-ка это, господа хорошие! Моя власть невелика. Управляющий не раз грозился — выгоню из мастеров, не штрафуешь рабочих, потатчик ты им. А у меня совесть есть… Ну выгонит, наду муки на свои руки — проживу.
-Как же, по-вашему, так всегда и будет?
-Не знаю я этого. Может, вы что скажите?
Курильщик вытащил трубку из кармана, раскурил ее. Помолчали.
-Нет, не всегда так будет, — сказал наконец Петр Иванович. — Не всегда! Франция тому пример.
-Какой пример? — спросил Матвей. — И тут хозяева есть. Да что там!
Опять помолчали. Потом начал Викентий Петрович:
-Разговор об этом длинный, мастер. Только не здесь, на бульваре… И в России вам, верно, встречались знающие люди…
-Студент у нас в городе есть. Выгнан из университета. Того послушать любопытно. Покровский Владимир Андреевич.
-Вы знаете Покровского? — удивился Петр Иванович.
-Лаборантом у нас был. Чахотка у него…
-Передайте ему привет от нас. Добрый парень, на характера слабого, большого дела боится…
-Отчего не передать… А сами-то вы, позвольте узнать, по делам тут или так, для удовольствия?
-И то, и другое, — уклончиво произнес Викентий Петрович. — Впрочем, приятного мало. Удовольствием было бы вернуться в Россию, но… — Он усмехнулся. — Всего доброго!
Горн был потушен — работа кончилась, последние изделия из пирогранита переданы на продажу. Себе Матвей оставил на память портрет президента Франции и такой же подарил Жаку. Пообедали в последний раз. Кроме обычной бутылки вина Матвей купил для парня и вторую, на прощанье. Жак малость охмелел, целовал русского, кричал что-то и всё: рюсс уврие, рююсс уврие, бон, бон! (Русские рабочие хорошие!). Слушая Жака, другие рабочие посмеивались, переглядывались. Матвей поднялся из-за стола, подал руку Жаку.
И все, какие были здесь, рабочие стали толпиться вокруг Матвея, жать ему руки, хлопать по плечу, говорить что-то, по всему видно, хорошее. Ольшанский зашел за Матвеем, постоял, послушал, перевел:
-Желают вам доброго пути, крепкого здоровья и хорошей работы. Зовут вас приезжать во Францию, познакомиться с ними получше, подружиться.
-И им тоже пожелайте от меня, — сказал Матвей. «И верно — рабочий рабочему всегда друг», — подумал он и, уходя, помахал французам рукой.
-Теперь нам приказано явиться к князю, — сообщил Ольшанский. — Мне — к расчету, вам домой ехать.
-Домой — это хорошо! — обрадовался Матвей. — Я один поеду?
-До границы вы едете с господином Александровым, знакомым князя. Только в разных вагонах. Ну это ничего, с вами в одном вагоне будет его лакей.
Князь принял их в своем номере отеля. Был он в добром духе, сказал приветливо:
-Присядьте, господа. Итак, Натан Рувимович, миссия ваша закончена. Благодарю вас. Вот ваши деньги. Теперь к вам, Никитин. Послезавтра едете в Россию. Завтра же ровно в два часа дня зайдете ко мне сюда: съездим по делу в одно место, затем передам пакет для управляющего. А теперь — получите заработанное…
На улице Матвей предложил:
-Непьющие мы с вами, а на прощанье бутылочку красного надо… Не откажитесь, очень прошу. Жили мы с вами хорошо, друг друга понимали.
Ольшанский слабо улыбнулся:
-Согласен. Можно. А вы семейным своим в подарок что-нибудь везете?
-Надо бы, да как?
-Буду вашим переводчиком. Уже не за деньги, а по дружбе. Пойдемте, время у нас есть.
Матвей купил для Анны платок шелковый большой и такой цветастый — в глазах режет, Яшке и Сережке по рубахе-блузе из плотной материи вроде бархата, Ольгушке — платье синенькое сатиновое, бусы, куклу. Остальное решил купить в Питере, там знакомее…
Потом сидели за мраморным столиком в винной лавочке, пили красное вино, закусывали сыром и яблоками. Ольшанский малость подрумянился, говорил бойчее и откровеннее, Никитин тоже чуть охмелел — давно с ним такого не бывало.
-Жалко мне вас, Натан Рувимович. Я-то на родную сторонку еду, а вы когда дома будете? Скучно небось. Русских здесь, почитай, и нет, разве кто из господ, да и те по-французски говорят даже промеж себя.
-Есть тут русские и попроще, вроде меня, — усмехнулся Ольшанский.
-Студенты?
-И студенты, и… эмигранты. Политические.
-Это как понимать?
-Просто! Есть в России люди, особенно из молодежи, которые, ну как бы вам сказать, начальством недовольны, царскими порядками, хотят, чтобы в России простому народу лучше жилось — и крестьянам, у которых земельки маловато, и вам, рабочим…
-Так. Понимаю. Об этом кое-что слышал, особенно в Питере. В Боровичах таких разговоров пока мало. Так эти, как их, эмигранты… зачем они здесь? От полиции спасаются?
-Совершенно справедливо! Иного начальство — в тюрьму, другого на каторгу, а то и на эшафот…
-Ну а ежели русский царь потребует у Франции, чтобы эмигрантов в Россию выслали, тогда как?
-Не полагается политических выдавать, есть такой международный договор. Уголовного преступника выдадут, политического — нельзя.
-Неплохой уговор. А дождемся мы того, чего эмигранты хотят, за что они стоят?
-Мы с вами, возможно, и нет, а вот наши дети дождутся, уверен.
-Слыхал я, что эти… политические против царя идут. Ладно ли?
-А вы как думаете, Матвей Яковлевич?
-Это нашим деткам решать… оно без царя вроде… министры вот его…
-Ну а с заводчиками, помещиками?
-Тоже наши дети решат.
-Слышали бы наши разговоры русские жандармы — и мы бы с вами в эмигранты попали либо… Однако мне пора. Ну, добрый вам путь в Россию!
-И вам всего доброго!
Когда в назначенное время мастер явился к князю, тот недовольно оглядел его, вызвал Ивана Исаича, приказал:
-Сведите Никитина в парикмахерскую. Нельзя в дикарском виде являться на заседание. И еще — купите ему синюю блузу, бархатную — пусть будет одет, как и французские рабочие.
Волосы и борода были подстрижены. Примерили в магазине блузу, понравилась: просторная, работать в ней легко.
У отеля стояла черная лакированная карета. Князь сел в нее и поехал. За ним Иван Исаич и Матвей — в коляске попроще, с «коше».
Карета остановилась у большого дома. По широкой мраморной лестнице, покрытой красным ковром, прижатым медными начищенными прутьями, вошли в зал. Сели в первом ряду — князь и мастер рядом.
Народу много: господа, дамы разнаряженные. На высокое место за стол под зеленым сукном какие-то важные персоны уселись, все больше старые, с орденами, медалями. Стали один за другим вперед выходить, говорить что-то. Поговорит один, поклонится — на свое место вернется, а ему в зале в ладоши хлопают.
Те, кто наверху сидели, поговорили, и стали из зала других приглашать наверх. Прочитают ему какую-то бумагу, подадут ее, руку ему жмут, медаль дадут дадут золотую либо серебряную — издали не разобрать — и опять ему руку жмут. И опять все в зале хлопают.
И вдруг слышит Матвей — вызывают оттуда сверху:
-Принс Голицын, мосье Никитин!
Князь Матвея тихонько в бок, встал, шепнул: «Иди за мной, не робей!».
Поднялись, на видном месте встали. Жутко Матвею — все на него смотрят, а самому глаз не поднять. Лысый старичок за столом читал, читал, потом подает князю большую красивую бумагу в красном переплете и медаль. И Матвею дали серебряную медаль. В красной бархатной коробке.
В зале захлопали. Князь поклонился и по-французски заговорил. Ему тоже захлопали. Князь шепотком: «Благодари!»
Матвей осмелился и — громко:
-За медаль покорнейше благодарим. Почаще бы так!
И опять захлопали, на Матвей с князем уже спускались на свое место — других к столу вызывали.
Еще этак с час сидели, слушали. Наконец вышли на улицу, там их Иван Исаич поджидал. Мигом подкатила князева карета, а за ней «коше» с бичом. Князь спрашивает Матвея:
-Понял, за что нас наградили? Меня, значит мой завод, дипломом и медалью за выпуск пирогранита. Тебе медаль за участие в этом деле и работу на выставке. Гордись и работай так же честно, как и до этого! Ну, поехали!
В своей келейке Матвей разглядел медаль как следует. Порядочная. Серебра в ней рублей на пять. Написано по краям не по-русски, на одной стороне — молодая женщина, в одной рубахе и колпаке, в руке у нее что-то вроде большущего рога, оттуда яблоки и груши сыплются, не гнилые ли, случаем, она на землю выбрасывает? А вокруг колеса разные, циркули, заводская труба дымится. На обороте — Эйфелева башня. Это верно — всем башням башня, только не из кирпича, как в крепостях настоящих, а железная, вся из балок и болтов, и выше ее, говорят, в мире нет. Насмотрелся на нее Матвей в Париже.
А медаль на груди носить нельзя. Без ушка. Ну и пусть в чемодане лежит, дома в сундук ее Анна уберет, чтобы ребята не баловались.
Лег спать довольный не только медалью, сколько тем, что завтра повезет его паровоз в далекие и милые сердцу Боровичи.