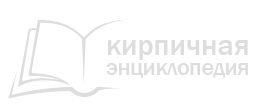Виталий Гарновский. Огненный гранит. (Часть 1-я)
Из Питера в Боровичи Матвей возвращался невеселым.
Когда в вагоне, набитом до отказа, народ малость поутрясся, поустроился кто как мог, а за окнами замелькали пропыленные пригородные пустыри, Матвей почувствовал такую усталость, чт прикрыл глаза. Но сон не шел. Опять думалось о своей, что ржавым гвоздем сидело в сердце.
Прошлой зимой прижала нужда так, как еще не случалось. Печнику в такую пору какая работа? Разве где трубы поправить, а это не каждый день бывает. Иную неделю жили тем, что зарабатывала Анна Семеновна, жена: то полы где помоет, то еще что-нибудь сделает, вот и двугривенный. А на пятерых этого мало, ох как мало — только на хлеб. Приварок же известный — с осени кадушка крашева припасена да картошки малость.
Потолкался Матвей по заводам, но по зимнему времени, известно, хоть неделю стой у ворот — работы не найдешь. В шахту идти — значит в бараке жить или плестись по морозу в мокрой одежде верст пять до города. Это же погибель.
Не раз и не два толковал об этом с женой. К весне как будто все уладилось: через знакомых выведал, что подрядчик Киселев сколачивает артель каменщиков и место в ней найдется; а дело знакомое, не один год в Питере дома клал, да и Киселев его знает.
Кое-как сбились на билет до Питера… Ожил Матвей в артели на знакомой работе, два раза домой по семи рублей посылал.
Весна задалась затяжная, сырая, холодная, редко когда пригреет солнышко. Из годов плохая весна! Вечером возвращались каменщики в свой подвал мокрыми и долго не могли согреться за артельным закопченным ведерным чайником.
Тут и настигла Матвея беда. Сперва вроде как знобило по ночам, и дивное дело — знобит, а рубаха от пота мокрая. Слабеть начал, руки вялыми стали, а каждая кирпична вроде тяжелей. Пришлось идти в больницу, томиться там в коридоре среди десятков больных, ждать своей череды. Дождался.
-Каменщик? — спросил доктор, едва глянув на сапоги Матвея в пятнах известки.
-Да, господин доктор.
-На что жалуешься?… Ага, понятно. Снимай пиджак, задирай рубаху. Сколько лет? Откуда сам? Новгородский? Так! На заработках? Так, так!
Приставил холодную трубочку к Матвеевой груди: «Дыши… Не дыши… Вздохни посильней». Потом со спины послушал. Сел к столу.
-Одевайся! Ишь как холода боишься — сразу гусиная кожа пошла! Так… — записал что-то в книгу.
-Присядь, Матвей… Матвей…
-По паспорту Никитин, а по уличному — Веселов.
-Так, Никитин-Веселов, не очень веселые у тебя дела…
Матвей испуганно глянул на доктора.
-Скрывать нет смысла, чахотка у тебя, братец!
-Чахотка?
-Она самая. Да не пугайся. Не скоротечная. Ежели с умом — сто лет проживешь…
-Это как понимать?
-Просто! Курорты не для тебя, братец. Диеты там разные, курочки, бульоны — тоже тебе не по карману.
-Щей бы мясных вволю да хлеба, господин доктор.
-Правильно! И чистого воздуха, не петербургской сырости. Новгородский, говоришь? Из какого угла губернии?
-Город Боровичи.
-Слыхивал. Поезжай, Никитин-Веселов, домой, там воздух посуше, почище. Работу бы тебе сменить…
-Вряд ли удастся.
-Вот, вот! А порошки, капли… Впрочем, выпишу. Бери рецепт.
И вот трясется теперь Матвей в вагоне. А там накурено, душно — голову ломит. Сидел на углу скамьи, не вступая ни с кем в разговоры, то задремывал, то просыпался, когда смолкал колесный перестук и кондуктор провозглашал — истинно дьякон, — к какой станции подъехали.
Во втором часу ночи, пошатываясь, как с похмелья, вышел на станции Угловка. Здесь надо было ждать до утра поезда на Боровичи.
Постоял на платформе, жадно дыша ночной свежестью, посмотрел, как убегает к далекой Москве поезд, что привез его сюда, как дремотно светится на заднем вагоне красный фонарик. Сунулся было в пассажирский зал, но тут же выскочил обратно, — в вагоне и то не так тесно и душно было. Перешел на другую, боровичскую сторону платформы, присел на скамейку, облокотился на свою истрепанную корзиночку с добришком, но спать уже не хотелось.
Белая ночь дотаивала. Крупная роса осыпала кусты за придорожной канавой, от нее потемнели доски платформы. Недвижный туман слоями лежал над равниной и лесами, и только два звука были в этом молочном разливе, сулящем на утро вёдро: скрип коростеля и будто железный кузнечик ковал — это кто-то ранний отбивал косу. В бледной вышине чуть мерцали две звездочки.
А железнодорожные пути жили своей ночной приглушенной жизнью. Вот, сипя, прокатился паровоз, роняя на полотно красные угольки, от клуба пара, что вырвался из-под колес, едко запахло банным щелоком. Вот загремели буферами красные товарные вагоны, грохот этот побежал по составу все дальше и дальше, в самый конец его. Потом с питерской стороны загорелись огненные глаза — все ближе, ближе, — взвихривая воздух, промчался скорый пассажирский.
И опять тишина, и опять поскрипывание коростеля в туманном логу и звонкий стук молотка по косе.
В том же поезде, но в синем вагоне первого класса, ехал из Петербурга в Боровичи князь Голицын.
Наследник громкого имени и небольшого состояния — очень уже много расплодилось Голицыных с петровских времен, — Князь еще в гимназии, перед тем как решать вопрос — идти ли в университет или какое-нибудь привилегированное военное училище, понял, что теперь дворянам, титулованным и попроще, надо устраивать свою жизнь не так, как до 1861 года. Поместья давали доход небольшой, и надеяться на них можно было только в черноземных губерниях, да и то если сам засядешь в глуши хозяйствовать.
Другое дело — промышленность, торговля. Английское дворянство давно смекнуло это, а русским еще надо было научиться не брезговать званием заводчика или фабриканта, если хочешь иметь настоящие деньги. И князь постепенно подошел к мысли немалую часть своего состояния вложить в какое-то дело.
Конечно, можно было просто купить акции. Но князю это было не по нраву, — человек он был энергичный и любил, чтобы все вокруг него шумело и гремело и от этого шума и гром получались звонкие монеты.
Размах и энергия не мешали князю быть осмотрительным и действовать не опрометчиво, а наверняка. Поэтому, закончив гимназию, он поступил в технологический институт — это давало необходимые для практической жизни знания. Учась, князь завязывал нужные ему знакомства с фабрикантами и заводчиками, сам, однако, не скрывая до поры до времени свои планы. Не скупился на расспросы, когда надо было, притворяясь простачком. И все прикидывал, взвешивал, во что именно вложить деньги. Металлургия? Но для самостоятельного разворота нужны были не тысячи, а сотни тысяч, а этого у князя не было. Каменный уголь, нефть? Там уже засели и крепко держали тузы посильнее Голицына.
Решение пришло не сразу. Помогла этому одна фраза из делового разговора двух заправил южных металлургических заводов, участником которого князь оказался как бы случайно.
-Рудные запасы — богатейшие, — говорил один из заводчиков, — топливные — тоже. А вот с огнеупорным кирпичом случается заминка…
-Простите, господа, что вмешиваюсь в ваш разговор, — князь сделал наивно удивленные глаза, — но ведь любой кирпич не горит.
-Охотно поясню, ваше сиятельство. Действительно, кирпич не из соломы сделан, из глины, а она, как вы изволили заметить, не горит. Но если из простого кирпича сложить печь для плавки, скажем, железа или чугуна, то при шестистах градусах она начнет пучиться, размягчится, и чугуна в такой печи не выплавишь. Нужен особый кирпич — из глин, которые выносят температуру до тысячи градусов, не меньше…
Все это князь знал не хуже своих собеседников. Ему хотелось выведать другое — почему с огнеупорным кирпичом на заводах заминка? И он опять прикинулся барчуком-простотой:
-Но, позвольте, господа. Разных глин в нашей стране, наверно, великое множество. Неужели нельзя заказать мужикам там, где есть удивительные глины, наделать кирпичей для ваших, как их… доменных печей? Мужички с радостью сделают это, и подешевке.
-В том-то и беда, ваше сиятельство, что эти глины не те, что осенью на любом проселке к колесам липнут. Есть у нас крупнейшее месторождение огнеупорных глин между Москвой и Петербургом, у городка Боровичи, может слышали про таковой?
-Что-то припоминаю…
-Так вот, там глины лучше английских, и боровичский огнеупор в почете. Но его стало не хватать. Чуть прозевал с заказом — ждать приходится. А это убыток нам.
-Неужели так много требуется этого огнеупорного кирпича?
Князю снисходительно пояснили, что в доменной или сталеплавильной печи, где пламя пылает круглые сутки, надо довольно часто менять всю кладку. Нужна также и сушеная молотая огнеупорная глина как связка при кладке кирпича. Огнеупорный припас требуется и для топок паровых котлов.
Князя эти разъяснения уже не интересовали, хотя он и делал вид, что слушал прилежно. Главное он узнал — на огнеупоры всегда будет спрос, значит, это дело верное…
На первых порах все шло хоть и не без хлопот, но неплохо. Удалось надолго арендовать у самой станции в Боровичах участок для постройки завода, бал заполучен и участок с запасами огнеупорной глины. Скоро поднялись в городе и стены еще одного предприятия «жаростойкого и огнеупорного кирпича и иных жаростойких изделий». Наконец настал день, когда после торжественного молебна все поздравляли князя с начатием дела и желали ему золотые горы.
Но дальше стали вдруг вырастать, как снежный ком, хлопоты и неприятности. Все оказалось не так просто.
Глубже вникая в дело, князь понял, что огнеупорные глины бывают похуже и получше, значит, надо уметь взять ту, какая нужна. Далее, лежат они зачастую не на поверхности, а саженях иногда чуть ли не в ста под землей, значит, надо строить шахту. Третье — добытую глину надо подольше выдержать на воздухе под навесом. Наконец, нужен еще шамот — обожженная и размолотая глина. Его надо добавить в известной пропорции в глину, потом все залить водой, дать настояться, замесить. Только после всего этого можно формовать огнеупорный кирпич.
К тому же кирпич должен быть различной формы и размера. Тут ручной формовкой не обойдешься, нужны прессы. Требуют господа заводчики и трубки для розлива жидкой стали, и много, многое другое, за разнообразие форм так и называемое: «фасон»…
Когда все это так или иначе наладилось, Голицын познал, как тягостны поиски солидного, постоянного покупателя. В трудную минуту нужен и запасной капитал. И с этим у князя было туговато. Правда, пока выручали две старые кузины, но, кажется, уже в последний раз удалось несколько дней назад добыть у них под вексель шесть тысяч.
С этими деньгами и ехал в Боровичи, где предстояли срочные платежи. Кроме того, предприятие, как хорошая лошадь, требует постоянного присмотра. Князю же на заводе приходилось бывать не так часто, как этого требовали интересы дела…
Когда в дверь купе осторожно постучался камердинер князя Иван Исаич и внятным шепотом доложил, что скоро будет Угловка, князь нарочито бодро откликнулся:
-Не сплю, Исаич, входи, бери чемоданы.
Начальник станции, завидя князя, подбежал, козырнул по-военному:
-С приездом, ваше сиятельство! Пожалуйте за мной в вагон на боровичской линии.
Князь, позевывая, неторопливо прошагал по дощатой платформе, скользнул взглядом по кучкам людей, спящих у стен вокзального здания, по Матвею, что сутулился обочь своей корзинки, и взялся за блестящий холодный поручень вагона. Бросил небрежно:
-Благодарю, господин начальник»… Исаич, приготовь постель, зверски хочется спать.
Когда за окнами вагона поползли прокопченные стены боровичских заводов и штабеля темно-желтого огнеупорного кирпича, приготовленного к отправке, пассажиры завозились, засобирались. И Матвей приободрился: «Вот и родная сторонушка, сердцу оборонушка, скоро и семью увижу, а там, может, и жизнь хоть малость настроится…»
У вокзала людская толчея, окрики извозчиков, цоканье копыт по булыжнику, грохот колес. А над городом — басовитое нытье заводских гудков, заглушающее перезвон церковных колоколов. Поезд приходил к началу утренней смены на заводах, и мимо вокзала толпами шли люди в серых от глиняной пыли одежонках, в разбитых сапогах, в лаптишках, опорках, а иные по летнему времени и босые. И все серые даже лицами — крепко въедалась заводская пыль в рабочее тело.
Вскинув корзинку на плечо, Матвей зашагал Петербургской улицей к паромной переправе, где шума и галдежа было больше, чем у вокзала. На том и другом берегу Мсты выстроились в ряд мужицкие подводы с серой глиной, дровами, глиняными канализационными трубами с завода братьев Колянковских, что в пяти верстах за городом, на речке Вельгии, и со многим другим. Ругань несусветная, каждому не терпелось поскорей проскочить на паром, и усатые полицейские охрипли, криком и кулаком наводя порядок. Впрочем, коляски и тарантасы проскакивали на паром первыми — двугривенные, попав в потную ладонь полицейского чина, делали свое дело…
Пешеходам попасть на паром было легче, и скоро Матвей выбрался на Городскую сторону, прошел на свою Успенскую улицу, к своему домишке в два оконца. Дома никого не оказалось. Старуха соседка, нянчившая внучонка, поклонилась Матвею:
-Давно ль, Яковлевич, вернулся? Не слюбилось?
Ох, этот Питер простому человеку бока вытер. Анна-то тебя и не ждала. Монастырский огород полет, девчонку с собой прихватила. А Яшка твой с братцем, видала я, с удочками на реку убежали. Да ты зайди к нам, отдохни с дороги…
-Спасибо, Маланья Ивановна. Ключ-то я знаю где Анна прячет, у себя и отдохну.
Скрипнул калиткой, отыскал в щели нижнего бревна ключ на лохматой веревочке, вошел в дом. Ах, в гостях хорошо — дома лучше! Ничего, что в рамах ни одного целого стекла — все осколочки да половинки, стянутые ниточками, ничего, что печь скособочилась, — известно, сапожник всегда босиком ходит, зато пол чисто вымыт, подметен, стол выскоблен добела, немудреная посудишка в порядка на полке у печи, хорошо пахнет свежеиспеченным хлебом, постными щами.
Разулся, прошелся натруженными ногами по прохладным половицам, и вроде на душе спокойнее стало. Налил в блюдо щей, отрезал горбушку еще чуть теплого хлеба и сел за стол. Но едва доел щи — уклонило в сон, вышел в сени, улегся на половичок, сунул под голову старую шубенку, и уснул, радуясь тому, что вот — дома!
Князя никто не встречал. Так уж было заведено у него, что о своих приездах он никогда управляющего заводом заранее не извещал, считая, что внезапность появления позволит ему как хозяину лучше увидеть и положение на производстве, и упущения подчиненных. И когда в проходной вахтер спросил, кто, мол, будете и зачем изволили пожаловать, князь безобидно усмехнулся:
-Опять, Михеич, запамятовал…-Ваше сиятельство? Вот порадовали! Свой глазок — смотрок! Сейчас в колокольчик дерну, управляющего вызову.
-Не надо. Разве не знаешь?.. На, после дежурства освежишься.
-Покорнейше благодарим, ваше сиятельство!
Долго стоял с непокрытой лысой головой, подкидывая на ладони двугривенный. Пробормотал довольный:
-Не накроешь! В конторе полы и окна еще позавчера помыты.
Ту же сцену радостного и тревожного удивления разыграли перед князем и в конторе, где все сверкало чистотой и даже мерцала лампадка перед иконой. Впрочем, управляющего и здесь не оказалось.
-В цеху находятся, — доложил бухгалтер. — Изволите послать за ним?
-Не надо. Сам пойду. Исаич, подай пыльник и старую шляпу. В чемодане. Сам побудешь здесь.
Бухгалтер и Исаич переглянулись. А как только князь ушел, бухгалтер достал из ящика стола незапечатанный конверт.
-Ваше жаловиние, Иван Исаич!
-Благодарю-с! Ваш слуга! — и сунул конверт во внутренний карман сюртука.
-Вечерком на чашку чая милости прошу. Свои соберутся.
-Ваш гость. Только буду ли свободен?
-А вы к вечерне попроситесь. Как всегда. За телеграмму спасибо. Вовремя пришла, подготовились.
-Согласно уговору!
Управляющего Голицын нашел в помольном цеху. От тончайшей глиняной пыли остро пахло серой и еще чем-то кислым, першило в груди, резало с непривычки глаза. Покашливая, щурясь, князь шел цехом неторопливо, то и дело сторонясь тачек, которые катили грузчики. Грохотал и скрежетал помольный барабан; князь знал, что в нем крутятся глыбы обожженной глины и чугунные шары-ядра, разбивающие эти глыбы в порошок. Рабочие не замечали хозяина: либо не узнавали его, либо были заняты своим делом.
Князь поднялся на верх обжигательной печи-горна. Пыли здесь было меньше, зато воздух, влажный до липкости, казался густым и недвижным. Сырость давал отформованный кирпич, сушимый на шпилярах — широких деревянных полках. Чавкали прессы, людские голоса были крикливыми, злыми. Хозяин остановился, наблюдая за работой обжигальщика, или, как называли их на боровичских заводах, очелочника. Вот железной кочергой-крюком подцепил тот чугунную крышку чела — отверстия, куда забрасывали топливо, оттуда пахнуло жаром — и торопливо стал швырять в эту огненную дыру полуторааршинные плахи. Набросал сколько надо, закрыл чело крышкой, утер серым рукавом рубахи пот со лба, пошел к следующему челу.
Работал споро, привычно, но Голицын поморщился, и было от чего: вместо березовых дров очелочник заправил горн осиной.
-Так, так, — пробормотал князь и подошел к штабелю, к которому два грузчика только что подкатили тачки с дровами и опять-таки почти сплошь осиновыми.
-Нарочно, что ли, осинку сюда поднимаете? — спросил князь, тыча в полено концом тросточки.
-Будь она проклята. Сырая, тяжелая, — пробасил один из грузчиков. — Тачка не в двадцать пять пудов получается, а в тридцать.
-И сорок навалят, а копейки не накинут каталю, — подхватил второй. И оба стали сердито укладывать поленья в штубель.
«Приметим это», — подумал князь и, завернув за угол шпиляр, оказался перед прессом. Прессовщик в домотканных штанах, без рубахи, — мускулы веревками крутого витья катались на его тощем и грязном теле, — не видел никого и ничего, кроме серой глиняной «валюшки», еще только напоминающей будущий кирпич. Работница, тоже в сером, тоже потная, то наклонялась к тачке с валюшками, то ловко швыряла их одну за одной на блестящий нижний стол пресса. Прессовщик едва заметным движением левой руки подправил валюшку, правой резко и крепко рвал рычаг, отводил его — челюсти пресса разжимались, на столе лежал сформованный кирпич. Другая работница выхватывала его из-под половинок пресса, клала на тачку.
«Чак, чак, чак», — чавкал пресс. Валюшка — в пресс, кирпич — с пресса. Вот тачка нагружена, ее покатили к шпилярам, а перед прессом стоит уже другая тачка тачка с валюшками, смазанными жирной нефтью, чтобы глина не прилипала к половинкам пресса. И прессовщик, и подавальщица, и съемщица ни на секунду не прерывали работу, повторяя одни и те движения, не имея времени даже утереть пот с лица.
Им было не до князя. А Голицын, полюбовавшись работой прессовщика, мысленно подсчитал, что ежели полагается за час работы отпрессовать одну тысячи кирпичей, то на каждый здесь уходит три и шесть десятых секунды. Пожалуй, больше требовать не приходится. Другое дело, если бы вместо человека стояла машина. Впрочем, таких машинных прессов пока еще нет и надобности в них не предвидится. Были бы заказы — и на ручных прессах русский мужик кирпичей задешево наделает.
Как обычно, князь закончил осмотр дровяным складом. Здесь он и нашел управляющего, ругавшегося со смотрителем дровяных богатств Никитой Кривоноговым, человеком действительно кривоногим, но зато широкоплечим и приземистым. Оба сучили кулаками — вот-вот управляющий влепит затрещину этому кривоногому Черномору.
Вдруг управляющий увидел князя, всплеснул руками, и на потном красивом лице его расплылась блаженнейшая улыбка.
-Ваше сиятельство, да вы-то как здесь? Вот обрадовали, вот обрадовали! И ни словечка о том, что прибудете! Впрочем, как и полагается — сами увидите всё в натуре. Вот хоть бы этого разбойника, — кивнул он на смотрителя. — Опять поленился на приемке дров, опять сырой осинки подсунули.
-Сколько же подсунули? — спросил князь, хмурясь. — Почему это другим заводам хвойно-березовая смесь идет, а моему заводу — осина?
Кривоногов забормотал:
-Истинный Христос, вот провалиться мне сквозь землю, это, действительно, оплошал у запани. Да немного осины, кубов полсотни сверх уговорного. Кабы не мне одни дрова были, а то и другой лесоматериал, и для завода, и для шахты — мотаюсь туда-сюда день-деньской…
-Оно и верно — кубиков с полсотни или малость побольше подкинули нам с запани, — уже тише заговорил управляющий. — Ничего, разойдется по горнам, ваше сиятельство.-Мало того, что лишний расход топлива, так ведь и кирпич не так хорошо будет обожжен. Вы понимаете это?
-Как не понимать! Так ведь мы дрова подсушиваем, без этого нельзя-с.
Дровоколы, прекратившие свою работу, чтобы полюбоваться на ссору управляющего со смотрителем, теперь, видя, что она потухла, да к тому же, кажись, и сам хозяин приехал, опять взялись за свои полупудовые колуны. Работали парами — один снимал со штабеля толстое полено, ловко швырял его на заранее приготовленное «ложе», другой взмахивал колуном, и — раз! — полено разлеталось надвое. Через некоторое время подавальщик и дровокол менялись местами, и опять глухо били сверкающие колуны.
Когда князь в сопровождении управляющего и смотрителя ушел в контору, один из дровоколов прервал работу и, опираясь на топорище, сказал напарнику:
-Микеха, а Микеха, слышь? Вот как деньги зарабатывают — и колуном не машут. Да разве пятьдесят кубиков осины на складе? Сотни! А князю платить за ровную смесь придется. Копеечка — лесопромышленнику, другая — смотрителю, третья — управляющему…
-Это нам с тобой копеечки, а им — рубли… Давай сменю тебя, гляди-ка, другие сколь накололи. Так нам с тобой и на четвертак за день не наколоть…
И колуны забухали снова.
Проснулся Матвей под вечер, когда в окна уже заглядывало низкое солнце — это из сеней увидел он в распахнутую дверь.
«Как это я дверь не прикрыл? — подумал Матвей. — Этак мух налетит…»
Но тут же заметил, что накрыт он лоскутным одеялом. Значит, Анна пришла, она и дверь в избу распахнула. Ну так и есть — слышны осторожные шаги ее босых ног. И он поднялся.
-А я пришла с огородов, шарю, шарю, ключа в щели нет, не знаю, что и подумать, — говорила ему Анна. — Спасибо, Маланья сказала… Ну и хорошо, что дома! А вот то нехорошо, что приболел. А может, и неправду сказал доктор? Ты, Матюша, не вешай головы… Сейчас ужинать будем, щи-то перекисли, так я ухи сварю мигом, ребятишки вон сколько пескарей и уклеи принесли. И окуньки есть.
-А где же ребятишки? Гостинцев я им привез.
-Хотели были тебя разбудить, да я не дала, прогнала на улицу…
Матвей сидел на пороге, и все спокойнее становилось у него на душе от ласкового грудного голоса Анны, от ловких движений ее загорелых рук, от вечернего света. Все-таки хорошую бог бабу послал, неунывную, работница первой руки, куда ни поставь. И чистоту любит… Что ж, может, и верно, ошибся малость доктор. Бывает. Рано еще о смерти думать, ребят надо поднимать.
Затрещали лучинки в печи, запахло дымком. Анна говорила и говорила — новостей у нее накопилось много. А вот Матвею и рассказать вроде не о чем.
Потом всей семьей сидели за скрипучим столом. Ребятишки, порадовавшись и баночке с карамелью-леденцом, и питерским булочкам, ужинали неохотно, а поужинав, едва до своих светелок добрели — набегались за день. И тогда Матвей и Анна разговор повели вполголоса и сидели, пока за соседским забором не заголосил петух…
Два дня Матвей провел дома, чинил прохудившуюся крышу, перебирал покосившийся забор. На третий навестил его кум Михаил Кузнецов.
-Живого видать, Яковлевич! Это хорошо! В Питере нашему брату не золотом — медными копейками платят. А и здесь тебе работенка есть, с тем я и пришел…
Анна принесла сороковку водки, селедку, натерла в деревянной чашке зеленого луку, заправила его квасом.
-Кушай куманек! Как там твоя Дуня поживает?
-А чего ей? Известно — огород, да ребятишки, да коровенка. Ну, с прибытием! Да что ты себе такую маленькую налил, нет, давай поровняем…
-Уволь, кум, рюмочку для встречи выпью — больше душа не принимает.
-Ох, трезвенник! Никак и курить бросил?
-Пришлось… Вторую неделю терплю, теперь вроде и не тянет, дышать легче. Пей, кум.
-Не торопи, выпью… А работа тебе такая — две печи в новом бараке на шахте сложить надо. Деревенские печники на сенокосе. Я и говорю Кузьме Нилычу, управляющему: знаю, мол, хорошего мастера в городе.
Пришлось Анне еще сходить и принести две бутылки пива. От пива и муж не отказался.
Чуть свет пошел Матвей на шахту. Сговорились сразу. Кроме двух новых печей, надо было еще переложить «голландку» в квартире управляющего, а в счете цену показать двойную и писать, что четыре печи сделано. Ну и черт с ним — управляющий хозяина надует, и только.
Работал Матвей неторопливо, домой ходил через три дня — не хотелось время терять на ходьбу. Спал в рабочем бараке и всего тут навиделся и наслышался — раньше только от людей о шахтерской жизни знал.
Как-то для интереса спустился и сам в шахту. Долго лез в глухую и сырую темень по скользким стремянкам, переводил дух на каждой площадке, а пока до нижнего двора добрался — пиджачишко мокрым стал от воды, что струилась по темным доскам ствола, капала отовсюду и даже струйками журчала. Керосиновая коптилка густо сеяла липкую копоть — вот-вот погаснет. А кум погонял Матвея, похохатывал:
-Давай руки подбирай, а то оттопчу!
Внизу, в забоях, было еще тошнее. Казалось, сама земля давила, ее сырые и душные недра готовы были сжать Матвея. Опасливо косился он на покрытые белой нитчатой плесенью крепления: боковые стойки сгибались под тягой кровли, верхние — потолок — тоже прогибались, а в ином месте уже и треснули.
-Заменить бы их, — заметил Матвей куму, невольно нагибая голову, уже измазанную сизой глиной.
-Эко! — откликнулся тот. — Хозяину лес дороже, чем мы, земляные крысы.
Посмотрел Матвей, как забойщики, хрипя от натуги, орудуют кирками, как откалывают глину и породу тачками. На заводе хоть голову наклонять не надо и под ногами не чавкает жидкая глина. А здесь дышать нечем, и парно очень, и копоть…
Выбравшись наверх, решил: «Лучше колчедан в реке черпаком добывать, чем в шахту идти!»
Печь в квартире управляющего доделал, по его просьбе, в воскресный день, хотя старуха — мать хозяина — и ворчала, что-де грех в праздник…
Получив расчет, зашел в барак попрощаться с кумом. Но там никого не оказалось. На улице увидел: все, кто оставался в этот день в шахте, с тревогой перекликаясь, бегут к главному стволу.
-Что случилось? — спрашивал Матвей, втискиваясь в толпу.
Ответили ему не сразу. Управляющий отгонял людей, орал, багровея:
-Ну чего толпитесь! Ничем теперь не поможете. Не мешайте, не мешайте!
Наконец Матвей узнал, что по воскресеньям шахту очищают от худого воздуха. Спускаются туда ребятишки-подручники, разводят внизу под главным стволом костерок на железном листе и сидят там, подкладывают дровишки. Теплый воздух течет вверх по стволу, тянет за собой дурной дух из забоев, а навстречу свежий холодок сверху льется. Глядишь, опять неделю работать можно. Вот и сегодня на рассвете опустились в шахту четыре паренька, и кто их знает, видимо уснули, костер притух и угару напустил. Вот и угорели.
-Насмерть?
-Должно быть. Поднимут — увидим. За доктором поехали, за полицией. Да вон первого поднимают в бадье.
Заголосили бабы, народ подался к лафету, но управляющий заорал не своим голосом, да и пролетка с полицейским чином подкатила, и тот запетушился, закричал.
Шел Матвей домой, вздыхал, в который раз давал себе слово — ни при какой нужде в шахту не лезть. Страшно и вспоминать: лежат на притоптанной сотнями ног траве четыре паренька годков этак каждый по двенадцати, лежат с синими лицами, остекленевшими глазами, убиваются над ними бабы, вздыхают мужчины, а полицейский пишет, пишет, пишет, поводя черными блестящими усами. Пописал, крякнул и пошел к управляющему чай пить.
На мелкие плутни управляющего князь смотрел сквозь пальцы, зная, что это неизбежно, крупных не отыскал, да и как отыщешь, если видно, что и управляющий, и бухгалтер, и другое заводское начальство ладно спелись между собой. Но когда управляющий заговорил о том, что придется рабочим по гривеннику на день накинуть, князь нахмурился.-До покрова пресвятые богородицы, — поторопился объяснить управляющий, — потом их прижмем.
-Опять, как в прошлом году?
-Ваше сиятельство, не нам одним приходится так делать. И на других боровичских заводах та же канитель. Рабочие-то у нас кто? Пригородные мужички. Как сенокос, уборка, хоть ты ему рубль в день давай, все равно уйдет на свое хозяйство.
-Вы же о гривеннике говорили.
-О рубле — это я к слову. А гривенник накинуть надо. Тогда иные и останутся на лето. Зато после покрова, когда с полей уберутся, отмолотятся, будут без шапок у заводских ворот стоять.
-Ну так и быть. Повысьте… на гривенник.
-Слушаюсь. Да, вот еще что, ваше сиятельство. Пришлось сегодня одного городского нанять. Печник хороший. Даже цеховое свидетельство есть. Санкт-Петербургское. А то закладывают ходы в обжигательные камеры люди неумелые…
-Пьяница какой-нибудь. Наверно выгнан из Петербурга…
-Нет, степенный человек.
-Ну, дело это ваше. Завтра уезжаю. Буду навещать вас почаще. Но смотрите — распустились тут…-Ваше сиятельство, обижать изволите! Да я ли не…-Знаю, знаю! Сегодня на берегу слышал, как пьяные бурлаки пели: «У хозяина барочка разбилась, у приказчика коровушка телилась!» Знаю! И ваша коровушка телиться умеет…
Вот уже второй год Матвей не беспокоился о работе — она у него есть. Каждое утро по гудку на завод. Дело знакомое: разбирает крепко спекшуюся замуровку входа в обжигательную камеру — оттуда пышет сухим жаром, от которого трещат волосы на голове, во рту становится сухо и в ушах начинает звенеть. Обливаясь потом, быстро откидывает в сторону кирпич за кирпичом, обжигающие руку даже через толстую рукавицу.
Потом принимается за те камеры, где уже заложена для обжига новая партия изделий. Здесь работать легче, но остановиться, передохнуть хотя бы пять минут нельзя — камера должна быть заделана возможно скорее, чтобы в ней сразу запылало воющее пламя.
После этого надо обойти ходы в камеры, проверить, все ли в порядке, не образовалась ли где трещина, не видно ли в нее пламя. Впрочем, на этом деле Матвей уже отдыхал. Он знал: его работа сделана на совесть, никто не придерется.
Обедал чаще всего печеной картошкой — она быстро пеклась на очельях. Иной раз баловал себя бутылкой молока, но не часто — нельзя забывать о ребятишках, пусть лучше они крепнут…
Скоро Матвея стали уважать в особицу — и за то, что пустого никогда не скажет, и за хорошую, чистую работу. А в конце второго года случилось то, что крепко его порадовало, хотя и несколько озадачило.
Горновой мастер Иван Степанов спился и был выгнан с завода. Тут и заинтересовалось начальство Матвеем. Был он знающим, грамотным. Предложили ему принять дела. Подумав, согласился.
Кое-кто поворчал: мол, без году неделя работает человек и вот уже — мастер. Но Матвей на ехидные замечания отвечал шуточками, и ворчуны замолчали.
Нелегко было ему. Конечно, неплохо получать не поденщину, а настоящее жалование, целых двадцать пять рублей. Но надо и начальство уважить, и своего брата рабочего не обидеть, и дело сделать хорошо.
Впрочем, все обошлось. На выгрузке людей не надо было поторапливать, сами торопились, будто их подстегивали, попробуй-ка в такой жаре, когда под кирпичом тачка дымиться, лишнюю минуту задержаться. На садке тоже дело шло без заминки, надо было только следить, чтобы изделия были уложены в правильные «елки». Ну а потом замуровывай вход и давай огонь. Вот тут надо было строжиться, чтобы ни перегара, ни недогара не получилось. Но сметкой Матвей обижен не был, скоро уразумел, что к чему.
Особенно ему нравились «кегли Зегера», этакие белые столбики-пирамидки, величиной каждый с мизинец. Установлены они, как гребешок, рядком, и каждый столбик сгибается при строго определенной температуре в горне. Согнулся левый
, — значит, столько-то градусов в камере горна, согнулся следующий — еще на сотню градусов тепла прибыло. А накренился предпоследний — прекращай пламя, обжиг кончен.
Седина уже пробилась в Матвеевой бороде, но была в нем юношеская любознательность ко всему, что окружало его. Многое понимал сразу, о многом догадывался, но еще больше такого, чего сам уразуметь не мог, а спросить было не у кого. И только вздыхал легонько, втайне завидуя людям с образованием. Но их-то и опасался Матвей расспрашивать.
Впрочем, таких на заводе, по сути, и не было. Управляющий был из мелких купчиков и занимался не столько производством, сколько сбытом изделий, заготовкой топлива, глины, наймом рабочих. А заводского инженера Матвей, как и рабочие, побаивался: был Петр Иванович угрюм, в разговоры не только с рабочими, но и со служащими вступать не любил, держал себя горденько. Пройдется утром по заводу, там постоит, тут посмотрит, буркнет два-три слова — и в контору. Выполняй его приказ и помалкивай. Сидит у себя в комнате, как рот в норе, толкуя вполголоса только с управляющим. И тот вскоре прибегал в цеха, кричал, бранился, сыпя штрафами. И все понимали — это ему инженер наябедничал…
Вздыхая о своей малограмотности, Матвей был рад, что сын Яшка в приходскую школу попал. Там хоть три года поучится, и то хорошо. Через три зимы будет и читать, и писать, и считать малость.
Никитин вспоминал, как сам учился грамоте у отставного солдата. Получал солдат за каждого ученика двугривенный и по очереди обедал у их родителей. Школы не было, учились там, у кого солдат в этот день на обеде был. Всего две зимы занимался Матвей, и если многие его ровесники вскоре позабыли грамоту, то ему любо показалось писать и писать, сам старался не забывать солдатских уроков.
А болезнь не отставала, особенно напоминая о себе зимой и летом. Кашель мучил Матвея, когда с мороза входил он в сумрачное горновое отделение или, побыв в нем, опять выходил на мороз. Но, откашлявшись, забывал о своей боли, только перхал иногда.
Иной раз выпадали минутки, когда можно было присесть немного. Матвей любил отдыхать у пятого чела, здесь сквозняк был не сильным, и очелочник Лоскутов нравился Матвею не только своей сноровистой работой, но и неожиданными вопросами. И Матвей дивился: Лоскутов вслух высказывает иногда то, о чем молчит мастер.
-Сколько, Яковлевич, домов в Питере каменных? — допытывался очелочник, присаживаясь рядом с Матвеем и не выпуская крюка из рук.
-Откуда мне знать, думаю — много тысяч.
-А сколько на каждый дом кирпича идет?
-Это какой дом. В иной сотни тысяч вложено.
-Значит, все рабочий человек делает? Кирпич сформуй, обожги, в город привези, в стены уложи. Это сколько же людей и годов надо, что город построить?
-Много! Да что тебе до этого?
-Интересно все-таки… — И бежал подбросить дров в чело.
В другой раз снова озадачивал:
-Скажи, Яковлевич, как это люди узнали, что есть простая глина, есть и огнеупорная? На язык, что ли, пробовали или огнем?
-Не скажу, не знаю. Видно есть способ. А что глина глине рознь, это и деревенский мужик знает.
Лоскутов опять убегал со своим крюком, а Матвей устало поднимался со скамьи и продолжал обдумывать чудные вопросы. Ведь и его издавна интересовала глина. Ну что она такое — просто сырая липкая земля, а вот — разная по цвету и по свойству. А без глины — никуда. И горшок из глины, и чайная чашка, и печка, и дом в пять этажей.
Отними глину у человека — туго ему придется, а ведь ногами топчем ее, не уважает, да еще и ругается, если идет или едет после дождя глинистым проселком.
Вот хотя бы эти кегли Зегера. Тоже, наверное, из разных глин сделаны: по разному жару переносят. Какие же это глины, где они, в каких странах? А может, у нас под ногами?
Летом Матвей оживал, рад был каждому воскресному дню. В хорошую погоду позволял себе побаловаться удочкой, но ходил не на Мсту, а на речку Вельгию за город. Рыба в ней не хуже — и подусты, и пескари, и даже хариусы. Брал с собой и сыновей. Здесь, на правом берегу речки, у деревни Тини и набрел он как-то на глубокий овраг, промытый дождями в крутом береговом склоне. Глянул на стенку оврага и подивился — будто цветное полотно перед ним: вот серая известняковая плита аршина в два толщиной, как фундамент холма, вот глины над ней, и разные-то преразные — серый, огнеупорные, и красные, и желтые — чистая охра, и розовые, и даже есть черный, как сажа, прослоек.
В следующее воскресенье опять отправился с мальчишками к Тиням, прихватил с собой корзину и под вечер уложил в нее по комку разных глин. Задумалось ему слепить из них маленькие кирпичики, положить их в горно поверх «елки» на обжиг и посмотреть, что из этого получится.
Сделал он это, таясь от рабочих, чтобы не высмеяли его. Глины из оврага повели себя по разному — в крошку рассыпался черный кирпичик, спеклись, оплавились желтые и красные, только серые, огнеупорные, стали темно желтыми, но устояли, хотя и потрескались малость.
-Шамоту в них не добавлено, вот и дали большую усадку, — задумчиво пробормотал Матвей. И хоть швырнул кирпичики в груду мусора, не забыл о них. «Забава» на этом не кончилась. Матвей все чаще стал думать о свойствах разных глин, припоминал знакомых гончаров и их продукцию. Боровичи и пригородные деревни славились умельцами. Иные такую посуду делали, что и царю на стол поставить не стыдно. Вон потерпелицкие муравленые горшки — легки, тонки, будто из фарфора, глазурь внутри — белая, гладкая, снаружи — темно-коричневая. И ни пятнышка на горшке, ни царапины. Или вон Максим Победная Голова самовар вылепил и обжег до звона — не отличишь от медного. Все честь по чести — и крышка и конфорка. Внутри перегородка — в одной половине чай, в другой кофе заваривай. А кран один и опять таки с фокусом: повернешь влево — чай льется, вправо — кофе. Да, есть выдумщики…
Вот бы найти такую глину, которая была бы и высокой огнеупорности, и крепкой после обжига, да чтобы из нее можно было вылепить все, что задумаешь, и употребить всюду… Сказка, конечно… А если все-таки поискать?
-Лед пошел, лед пошел! — вопили мальчишки, мчась на берег Мсты. И взрослые, у кого было время, тоже заторопились к реке, посмотреть удивительное явление, бывающее только раз в году.
-Потише, ребятки, — говорил, покашливая, Матвей своим сыновьям, — не угнаться мне за вами, дыханья что-то мало становится.
-Тятя, у тебя чахотка? — спросил младший, Сережка.
-Молчи ты, дурной, — одернул его степенный Яшка.
-Ничего, пускай, — ответил Матвей. — Тайного в моей болезни нет. Кашляю, вот и все. Теперь лед пройдет, я и окрепну. Весной мне трудновато бывает.
Они долго, пока не продрогли, любовались ледоходом. И другие молча стояли на берегу, наблюдая, как наползает льдина на льдину, как ломаются они. А вот толстенная грязная льдина, словно живая, стала выползать на берег, все выше, выше. И замерла.
-Силы у нее не хватило, — заметил Сережка. — Отдохнет немного и опять полезет кверху. Тятя, давай отойдет подальше.
-Не бойся сынок! Тут ей лежать теперь, пока на иголки не рассыплется и не растает.
-А большие иголки? С ушками? — допытывался мальчик.
-Без ушков. Большущие, длинные…
Еще одна льдина, шурша и позванивая, ползла на откос, пропахивая в почве, оттаявшей только сверху, широкую борозду. Сначала острый край пропахивал серую («огнеупорная глинка», — определил Матвей), потом полосу красно-бурую («горшечная»). Обе смешались, стали простой грязью, легшей валиком у края остановившейся льдины.
-А что, если глины смешивать? — вслух подумал Матвей, спохватился и даже оглянулся. Но никто не повернул к нему головы, а ребятишки увлеклись швырянием камушков в воду.
День был на исходе, ясный, с легким холодком, черными еще ветвями берез в церковной ограде. Грязными буграми лежал дотлевающий снег в яминах и ложбинах заводского берега, а здесь, на берегу Городской стороны, между камнями уже пробивалась светло-зеленая травка.
-Пошли, сынки, — сказал Матвей. — Холодно становится.
И пока шел до дома, думал об одном и том же. Впрочем, думал об этом и ложась спать, и на другой день, на заводе.